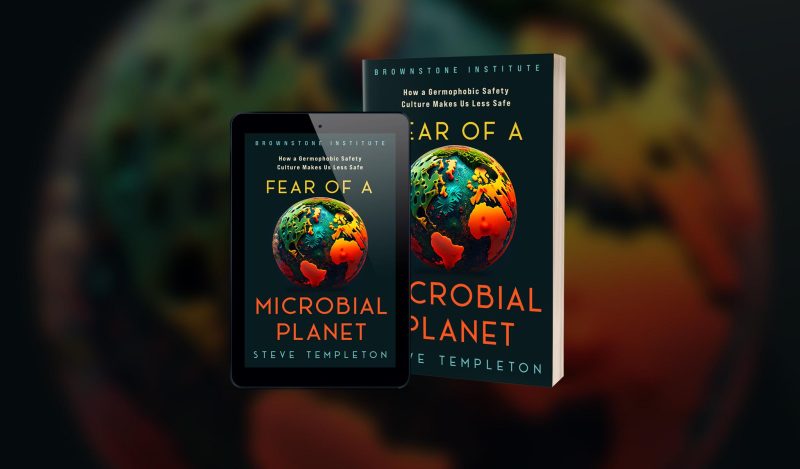«Я вернулся домой, немного опасаясь за свою страну, боясь того, чего она может хотеть и получать, и вроде как под давлением смешанной реальности и иллюзии. Я чувствовал — и чувствую, — что я встретил не немца, а Человека. Он оказался в Германии при определенных условиях. Он мог бы, при определенных условиях, быть я. —Милтон Майер, Они думали, что они свободны, икс.
Прошло более семидесяти пяти лет с тех пор, как нацисты были побеждены и Освенцим был освобожден. Семьдесят пять лет – это длинной времени — на самом деле так долго, что, хотя многие все еще узнают об ужасах Холокоста, гораздо меньше людей понимают, как произошло убийство евреев. Как миллионы людей систематически истреблялись в передовой западной стране — конституционной республике? Как такие уважаемые и интеллигентные граждане оказались соучастниками убийства своих соотечественников? На эти вопросы пытался ответить Милтон Майер в своей книге. Они думали, что они свободны.
В 1952 году Майер перевез свою семью в небольшой немецкий городок, чтобы жить среди десяти простых мужчин, надеясь понять не только то, как нацисты пришли к власти, но и то, как обычные немцы — простые люди — стали невольными участниками одного из величайших геноцидов в истории. Мужчины, среди которых жил Майер, принадлежали к разным слоям общества: портной, краснодеревщик, сборщик счетов, продавец, студент, учитель, банковский служащий, пекарь, солдат и полицейский.
Примечательно, что Майер не просто проводил формальные интервью, чтобы «изучить» этих мужчин; скорее, Майер обедал в домах этих мужчин, подружился с их семьями и почти год жил как один из них. Его собственные дети ходили в ту же школу, что и их дети. И к концу своего пребывания в Германии Майер мог искренне называть их друзьями. Они думали, что они свободны — это рассказ Майера об их историях, а название книги — его диссертация. Майер объясняет:
«Только один из десяти моих друзей-нацистов видел нацизм так, как мы — ты и я — видели его в любом отношении. Это был Гильдебрандт, учитель. И даже он тогда считал и верит в части ее программы и практики «демократической частью». Остальные девять, порядочные, трудолюбивые, обычно умные и честные люди, до 1933 года не знали, что нацизм — это зло. Между 1933 и 1945 годами они не знали, что это зло. И они не знают этого сейчас. Никто из них никогда не знал и не знает нацизма в том виде, в каком его знали и знаем мы; и они жили под ним, служили ему и, действительно, сделали его» (47).
До прочтения этой книги я думал о том, что произошло в Германии, с некоторой долей высокомерия. Как они могли не знать, что нацизм — это зло? И как они могли видеть, что происходит, и не высказаться? Трусы. Все они. Но когда я читал книгу Майера, я почувствовал комок в животе, растущий страх, что то, что произошло в Германии, не было результатом какого-то дефекта немецкого народа той эпохи.
Мужчины и женщины Германии в 1930-х и 40-х годах мало чем отличались от американцев 2010-х и 20-х годов — или людей любой нации в любое время на протяжении всей истории. Они люди, как и мы люди. И, как люди, у нас есть сильная склонность резко осуждать зло других обществ, но не замечать собственных моральных ошибок — ошибок, которые в полной мере проявились в последние два года во время паники, вызванной коронавирусом.
Книга Майера пугающе прозорлива; читать его слова — все равно что заглядывать себе в душу. Следующие абзацы покажут, насколько реакция мира на ковид была похожа на реакцию Германии на «угрозу» со стороны евреев. Если мы сможем по-настоящему понять параллели между нашей реакцией на ковид и ситуацией в гитлеровской Германии, если мы сможем увидеть, что ждет в конце «двух недель, чтобы сгладить кривую», возможно, мы сможем предотвратить полное осуществление величайших злодеяний в наш собственный день. Но чтобы остановить нашу склонность к тирании, мы сначала должны быть готовы бороться с самыми темными сторонами нашей природы, включая нашу склонность к тирании. дегуманизировать других и относимся к нашим соседям как к врагам.
Преодоление порядочности
«Нельзя ожидать, что простые люди — и простые немцы — будут терпеть действия, которые оскорбляют обычное чувство приличия, если только жертвы не будут заранее успешно заклеймены как враги народа, нации, расы, религии. Или, если они не враги (это будет позже), они должны быть элементом внутри сообщества, каким-то образом внешним по отношению к общей связи, разлагающим ферментом (будь то только тем, как они разделяют волосы или завязывают галстук) в единообразии. что везде является условием общего спокойствия. Безобидное принятие и практика немцами социального антисемитизма до гитлеризма подорвали сопротивление их обычной порядочности грядущим стигматизации и преследованиям» (55).
Другие объяснили связь между тоталитарными импульсами и «институционализированной дегуманизацией» и обсудили «другое» непривитых лиц в странах по всему миру. Майер показывает, что такая дегуманизация не обязательно начинается с предрассудков:
«Национал-социализм был антисемитизмом. Помимо антисемитизма, его характер был похож на тысячу тираний, существовавших до него, с современными удобствами. Традиционный антисемитизм. . . сыграли важную роль в смягчении немцев в целом к нацистской доктрине, но именно разделение, а не предубеждение как таковое, сделало возможным нацизм, простое разделение евреев и неевреев» (116-117).
Даже если многие немцы не питали антисемитских предубеждений (по крайней мере, изначально), насильственное разделение евреев и неевреев создало разрушительный раскол в немецком обществе, разорвав социальную ткань и проложив путь тирании. В наши дни разделение людей в масках и без масок, на привитых и непривитых разделило население по всему миру так, как ничего подобного мы не испытывали в своей жизни. И глобального масштаба этого разделения, возможно, не было в истории человечества.
Как стало возможным это разделение? Огромная сила пропаганды, особенно пропаганды в эпоху цифровых технологий. Мы думаем, что понимаем, как пропаганда влияет на нас, но часто не осознаем действительно коварного воздействия на то, как мы относимся к другим, пока не становится слишком поздно. Друзья Майера объяснили это очень подробно. Однажды Майер спросил бывшего банковского служащего об одном из его друзей-евреев. «Твои воспоминания о торговце сделали тебя антисемитом?» «Нет, пока я не услышал антисемитскую пропаганду. Евреи должны были делать ужасные вещи, которых торговец никогда не делал. . . . Пропаганда заставила меня думать о нем не таким, каким я его знал, а о нем как о еврее.(124; курсив мой).
Можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы смягчить бесчеловечное воздействие пропаганды? Майер описывает силу нацистской пропаганды как настолько мощную, что она затронула всех его друзей:менялась этим — включая учителя, который лучше разбирался в такой тактике. Спустя почти семь лет после войны его друзья так и не смогли убедить себя в том, что их обманули:
«Никто не доказал моим друзьям, что нацисты ошибались насчет евреев. Никто не может. Истина или ложь того, что говорили нацисты и во что верили мои друзья-экстремисты, было на удивление несущественным. Просто не было никакого способа добраться до него, по крайней мере, такого, который бы пользовался процедурами логики и доказательства» (142).
Вывод Майера удручает. Если мы не можем убедить других с помощью логики и доказательств, как мы можем убедить их? Сколько из нас поделились неоспоримыми данными о том, что вакцины несут в себе риски? Сколько из нас показывали видеоролики, в которых представители органов здравоохранения открыто признают, что вакцины не останавливай передачу и что тканевые маски не работают (и на самом деле чуть больше, чем «украшения для лица»)? Однако свидетельства не убеждают тех, кто попался на удочку пропаганды; действительно, это не могу уговорить их. Это потому, что сама природа пропаганды не взывает к логике или разуму; он не обращается к доказательствам. Пропаганда взывает к нашим эмоциям, а в мире, где многие люди руководствуются эмоциями, пропаганда глубоко укореняется в сердцах тех, кто ее потребляет.
Итак, что нам делать? Майер передает разочаровывающую реальность. Но понимание того, как работала пропаганда в нацистской Германии и как она работает сегодня, необходимо, если мы хотим иметь хоть какой-то шанс убедить тех, на кого она повлияла. Более того, понимание зачем многие люди, как правило, руководствуются эмоциями, и передача или приостановка своего критического мышления, возможно, даже более важна для предотвращения больших трагедий. Мы не можем ожидать, что другие избегут тирании пропаганды, если у них нет времени подумать или у них есть мотивация. не думать.
Наша собственная жизнь
Даже без дегуманизации тех, кто представлял «угрозу» для общества, большинство немцев были слишком сосредоточены на собственной жизни, чтобы думать о бедственном положении своих соседей:
«Люди думают в первую очередь о жизни, которую они ведут, и о вещах, которые они видят; и среди вещей, которые они видят, не экстраординарные зрелища, а зрелища, которые встречаются им в их повседневных кругах. Жизнь моих девяти друзей — и даже десятого, учителя — освещала и освещала жизнь национал-социализма, каким они его знали. И они оглядываются на это сейчас — девять из них, конечно — как на лучшее время в своей жизни; ибо что такое человеческие жизни? Были рабочие места и гарантии занятости, летние лагеря для детей и Гитлерюгенд, чтобы держать их подальше от улиц. Что хочет знать мать? Она хочет знать, где ее дети, с кем и что они делают. В те дни она знала или думала, что знает; какая разница? Итак, дома дела пошли лучше, а когда дела идут лучше дома и на работе, что еще нужно знать мужу и отцу?» (48)
Лучшее время в их жизни. С того места, где мы находимся в 2022 году, это кажется невероятным заявлением. Как они могли рассматривать общество, которое подвергло остракизму и в конечном итоге убило миллионы своих сограждан, как хорошее общество? Как они могли смотреть в другую сторону, когда евреи и другие страдали? Легко задавать эти вопросы, но разве в нашем современном мире мы не слишком озабочены комфортом собственной жизни и жизни наших близких? Если жизнь других подвергается риску, чтобы наши семьи могли продолжать «оставаться дома и спасать жизни» — чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности от смертельного вируса и «праведными» из-за наших решений — разве мы не выберем это? ? Многие из нас так и сделали. Но думали ли мы хотя бы о том, что наше пребывание дома означает, что другие не могут?
Блокировки разрушили жизни миллионов детей из бедных семей как дома, так и за границей. Но класс ноутбуков оставался изолированным от этих страданий, довольствуясь доставкой продуктов, зум-звонками и новыми эпизодами «Короля тигров». И пока многие во всем мире голодали или боролись из-за ограниченных запасов еды и воды, мы сражались за новейшие айфоны, считая, что эти устройства необходимы, чтобы «переждать пандемию» из наших высотных замков и загородных крепостей. Действительно, многих из нас больше всего беспокоило, сможем ли мы быстро доставить новый 42-дюймовый телевизор, если наш перестанет работать. Мы ничего не знали о страданиях других и едва ли задумывались о том, что их реальности могут быть другими. Так и в Германии:
«В рамках программы «Сила через радость» были замечательные десятидолларовые путевки для всей семьи, в Норвегию летом и в Испанию зимой, для людей, которые и не мечтали о настоящем отпуске дома или за границей. А в Кроненберге «никто» (никого из моих друзей не знали) не простудился, никто не голодал, никто не болел и не оставался без присмотра. Кого знают мужчины? Они знают людей своего района, их положения и занятий, их собственных политических (или неполитических) взглядов, их религии и расы. Все блага Нового Порядка, рекламируемые повсюду, достигли «всех»» (48-49).
Мы быстро забываем тех, кто далеко от нас. А в безликом мире «социального дистанцирования» гораздо легче забыть о множестве людей, страдающих сверх того, что мы можем вынести. Дети, которые никогда не знали лица своих учителей? Не наша забота. Пожилые и немощные, отрезанные от остального мира, лишенные социального взаимодействия и человеческого контакта? Это для их здоровья и безопасности. И дети, и взрослые с ограниченными возможностями и особыми потребностями, не говорящие и не слышащие? Мы все должны пойти на жертвы, чтобы замедлить распространение.
Наши собственные страхи
Добавьте к нашей собственной жизни наши собственные страхи (реальные или воображаемые), и мы станем еще менее мотивированными думать о трудностях других:
«Их мир был миром национал-социализма; внутри него, внутри нацистского сообщества, они знали только хорошее общение и обычные заботы обычной жизни. Они боялись «большевиков», но не друг друга, и их страх был принятым страхом всего во всем остальном счастливого нацистского сообщества, которым была Германия» (52).
«Принятый страх» сообщества. Десять мужчин, среди которых жил Майер, описали социально приемлемые страхи, которые им разрешалось выражать, и страхи, которыми они должны управлять своей жизнью. Но чтобы выразить страх или даже беспокойство по поводу растущего тоталитаризма нацистского режима? Такие опасения были Verboten. Так и сегодня. Нам разрешено (на самом деле поощряется!) бояться вируса. Мы можем опасаться коллапса системы здравоохранения. Мы можем бояться «непривитых» и даже «антимаскеров». Но смеем ли мы выражать страх перед растущим среди нас тоталитаризмом? Осмелимся ли мы бросить вызов «научному консенсусу» или подвергнуть сомнению указы чиновников общественного здравоохранения? Мы не осмеливаемся, чтобы не быть сваленными в одну кучу с отрицающими науку антипрививочниками. Мы не осмеливаемся, чтобы наши сообщения не были названы дезинформацией или наши аккаунты были заблокированы навсегда.
Наши собственные проблемы
«Именно этим, я думаю, — у них были свои проблемы, — что в конце концов объяснило неспособность моих друзей «что-то сделать» или даже что-то узнать. Человек может нести только определенную ответственность. Если он попытается нести больше, он рухнет; поэтому, чтобы спасти себя от краха, он отказывается от ответственности, превышающей его возможности. . . . Ответственные люди никогда не уклоняются от ответственности, и поэтому, когда они должны отказаться от нее, они ее отрицают. Они задергивают занавес. Они полностью отстраняются от размышлений о зле, с которым должны, но не могут бороться». (75-76).
У каждого из нас есть своя жизнь — повседневные заботы наших семей и друзей. У нас также есть собственные страхи — страхи перед воображаемыми угрозами или реальными рисками. Добавьте к нашим жизням и страхам тяжесть наших собственных обязанностей, и мы можем оказаться бессильными принять во внимание проблемы тех, кто нас окружает. Это относилось не только к немцам того времени, но и к американцам. Майер описывает взаимодействие со своим другом Саймоном, сборщиком счетов, по поводу интернирования японцев американцами. Саймон рассказал о принудительном переселении более 100,000 XNUMX американцев, включая детей, из-за их японского происхождения (и предположительно из-за угрозы, которую они представляли для безопасности нации).
Саймон спросил, что сделал Майер, чтобы защитить своих сограждан, которые были выселены из своих домов без какой-либо надлежащей правовой процедуры. — Ничего, — ответил Майер. Ответ Саймона отрезвляет:
"'Там. Вы узнали обо всем этом открыто, через ваше правительство и вашу прессу. Мы не учились через наших. Как и в вашем случае, от нас ничего не требовалось, в нашем случае даже знаний. Вы знали о вещах, которые считали неправильными, — вы действительно думали, что это неправильно, не так ли, герр профессор? 'Да.' 'Так. Вы ничего не сделали. Мы слышали или догадывались, но ничего не делали. Так везде». Когда я возразил, что с американцами японского происхождения не обращались как с евреями, он сказал: «А если бы они были — что тогда? Разве ты не видишь, что идея делать что-то или ничего не делать в обоих случаях одинакова?» (81).
Мы все хотим думать, что реагируем по-разному. У всех нас самые лучшие намерения, и мы верим, что у нас хватит смелости постоять за других. Мы будем героями, когда все остальные будут слишком бояться действовать. Но когда придет время, что мы будем на самом деле делать? Общение Майера со своим другом учителем стоит подробно процитировать:
«Я никогда не переставал удивляться тому, что выжил, — сказал герр Хильдебрандт. «Я не мог не радоваться, когда что-то случалось с кем-то другим, что это не случилось со мной. Это было как позже, когда бомба попала в другой город или в другой дом, чем твой собственный; вы были благодарны. — Больше благодарен за себя, чем сожалел о других? 'Да. Правда в том, что да. В вашем случае может быть по-другому, герр профессор, но я не уверен, что вы узнаете, пока не столкнетесь с этим. . . .
Вам было жаль евреев, которые должны были называть себя, каждый мужчина с вставкой «Израиль» в свое имя, каждая женщина с «Сара» при каждом официальном случае; жаль, что позже они потеряли работу и свои дома и должны были сообщить о себе в полицию; еще более жаль, что им пришлось покинуть свою родину, что их пришлось отправить в концлагеря, поработить и убить. Но-разве ты не был рад, что ты не еврей? Вы были огорчены и еще более напуганы, когда это случилось с тысячами, сотнями тысяч неевреев. Но — разве вы не были рады, что это не случилось с вами, неевреем? Может быть, это была не самая высокая радость, но ты прижал ее к себе и следил за своим шагом, осторожнее, чем когда-либо» (58-59).
Мне их жаль, но я не хочу говорить об этом. Я ненавижу, когда детям отказывают в доступе к логопеду, очной школе или общению со своими друзьями. Но если я заговорю, я могу потерять свой статус и влияние. Я ненавижу, что непривитые теряют работу и остаются дома. Но если я заговорю, я тоже могу потерять работу. Я ненавижу, что моих сограждан увозят в «карантинные центры» против их воли. Но если я заговорю, меня могут привлечь к уголовной ответственности. И я ненавижу, что непривитых исключают из общества и презирают национальные лидеры. Но если я заговорю, меня тоже могут исключить. Риск слишком велик.
Тактика тиранов
«[Современные] тираны все стоят выше политики и тем самым демонстрируют, что все они мастера-политики» (55).
Как часто государственные чиновники осуждали тех, кто подвергает сомнению нарратив, как «политизирующий covid»? «Хватит политизировать маски!» «Хватит политизировать вакцины!» А тех, кто не согласен, унижают как «отрицающих науку сторонников Трампа» или «теоретиков заговора против прививок». Неудивительно, что так мало людей подвергают сомнению официальные заявления о масках, карантине и вакцинах — делать это значит подвергать себя перекрестию прицела, навлекать на себя обвинения в том, что они больше заботятся о политике и экономике, чем о жизни и здоровье людей. Этот газлайтинг ни в коем случае не является единственной тактикой тех, кто стремится к большему авторитарному контролю. В дополнение к тому, что он помогает нам понять, что делает нас восприимчивыми к тоталитаризму — почему многие из нас будут «задергивать занавес» перед лицом зла — работа Майера также разоблачает тактику тиранов, позволяя его читателям увидеть и сопротивляться.
«Это отделение власти от народа, это расширение пропасти происходило так постепенно и так незаметно, каждый шаг прикрывался (может быть, даже и не намеренно) временной чрезвычайной мерой или связывался с истинно патриотической преданностью или с реальными общественными целями. И все кризисы и реформы (и реформы действительные) так занимали людей, что они не видели под ними замедленного движения, все более и более удаляющегося процесса управления государством» (166—167).
За последние два года многие били тревогу об угрозе бесконечных чрезвычайных ситуаций, и все мы снова и снова были свидетелями того, как передвигались стойки ворот. — Всего две недели. — Это просто маска. «Это всего лишь вакцина». И так далее. Но в то время как почти все признают, что «две недели, чтобы сгладить кривую» были не просто двумя неделями, слишком немногие понимают коварную угрозу продолжающегося «чрезвычайного положения». Но друзья Майера поняли и испытали на себе катастрофические последствия.
До того, как Гитлер стал канцлером, Германия все еще была республикой, управляемой Веймарской конституцией. Но Статья 48 этой конституции разрешалось приостанавливать действие гражданских свобод «[если] общественная безопасность и порядок серьезно нарушены или поставлены под угрозу». Этими чрезвычайными полномочиями постоянно злоупотребляли, и после пожара Рейхстага в 1933 году Закон о полномочиях передал всю законодательную власть от немецкого парламента исполнительной власти, позволив Гитлеру «править декретом» до конца войны в 1945 году.
В то время как законодательные ветви штатов и федеральное правительство в Соединенных Штатах (и других странах по всему миру) заседали последние два года, реальность такова, что законодательные органы редко стремились ограничить полномочия исполнительной власти. Под эгидой Центров по контролю и профилактике заболеваний, ВОЗ и других учреждений здравоохранения руководители эффективно управляют делами. Закрытие предприятий, обязательные маски и вакцины, принуждение людей оставаться дома — большинство этих мер были реализованы руководителями без консультаций с законодательными органами. И какое было оправдание? «Чрезвычайная ситуация» ковида. Если бы мы могли вернуться в 2019 год и задаться вопросом, следует ли разрешать руководителям в одностороннем порядке навязывать такую политику, изменяющую жизнь их людей, даже законодательного согласия, подавляющее большинство людей, вероятно, сказали бы «Нет!» Так как же мы оказались здесь в 2022 году? Друзья Майера предлагают ценную информацию.
Общее благо
«Сообщество вдруг становится организмом, единым телом и единой душой, потребляющим своих членов для своих целей. Во время чрезвычайного положения город существует не для гражданина, а гражданин для города. Чем сильнее давление на город, тем усерднее его граждане работают на него и тем продуктивнее и эффективнее они становятся в его интересах. Гражданская гордость становится высшей гордостью, ибо конечной целью всех огромных усилий является сохранение города. Совестливость есть теперь высшая добродетель, общее благо — высшее благо» (255).
Какова причина многих мер, принятых за последние два года? Общее благо. Мы должны носить наши маски, чтобы защитить других. Сделайте прививку, чтобы любить наших ближних. Оставайтесь дома, чтобы спасти жизни. И это касается не только наших соседей как отдельных лиц, но и общества в целом. Мы должны закрыть школы, чтобы сохранить ресурсы больниц. В Великобритании предпринимались усилия по «защите NHS». И бесчисленное множество других лозунгов сигнализировали о нашей общей добродетели.
Чтобы было ясно, я не против совместной работы на общее благо; Я не ценю свои свободы больше, чем жизни других (это была обычная тактика газлайтинга, используемая против тех, кто выступал против чрезмерного вмешательства правительства). Скорее, я просто понимаю, как в разные времена правительства использовали «общее благо» как предлог для консолидации власти и осуществления авторитарных мер, которые в обычных обстоятельствах были бы отвергнуты. Именно это и произошло с друзьями Майера:
«Возьмите Германию как город, отрезанный от внешнего мира наводнением или пожаром, наступающим со всех сторон. Мэр объявляет военное положение, приостанавливая дебаты совета. Он мобилизует население, ставя перед каждой секцией свои задачи. Половина граждан сразу занимается непосредственно общественными делами. Каждый частный акт— телефонный звонок, использование электрического света, услуги врача — становится публичным актом. Всякое частное право — прогуляться, посетить собрание, работать в печатном станке — становится общественным правом. Каждое частное учреждение — больница, церковь, клуб — становится общественным учреждением. Здесь, хотя мы никогда не думаем назвать это каким-либо другим именем, кроме давления необходимости, у нас есть вся формула тоталитаризма.
Индивид отказывается от своей индивидуальности безропотно, даже без задней мысли.— и не только его отдельные увлечения и вкусы, но его отдельные занятия, его отдельные семейные заботы, его индивидуальные потребности» (254; курсив мой).
Тираны понимают, как использовать наше желание заботиться о других. Мы должны понять их тенденцию использовать нашу добрую волю. В самом деле, понять эту тактику и противостоять посягательствам на свободу — значит сохранить представить общее благо. К сожалению, многие люди не осознают, что их эксплуатировали, что их желание работать на общее благо превратилось в безоговорочное послушание. Описание Майера ошеломляет:
«Для остальных граждан — 95 процентов или около того населения — долг теперь является центральным фактом жизни. Они подчиняются, сначала неуклюже, но, на удивление скоро, спонтанно». (255)
Этот тип соответствия, по-видимому, наиболее четко проявился при использовании масок. Мы подчиняемся спонтанно, а не под прицелом. И мы подчиняемся, не задумываясь о разумности того, что требуется. Мы будем носить маску, чтобы подойти к столику в переполненном ресторане, и мы будем обедать в течение двух часов, прежде чем снова надеть ее и выйти. Мы должны носить маски в самолете, чтобы «остановить распространение», но мы можем снимать их, пока едим или пьем. Некоторые даже носят маски, когда едут в одиночестве в своих машинах. Чтобы было ясно, я не критикую тех, кто носит маски в таких ситуациях; Я сожалею о том, что пропаганда так повлияла на нас, что мы подчиняемся, не задумываясь о своих действиях. Или, что еще хуже, мы иметь учитывали их, но мы все равно соблюдаем их, потому что это то, что делают другие, и это то, что ожидается от нас.
Вы видите опасные параллели между тем, что происходит сегодня, и тем, что произошло в Германии? Дело не только в масках (и никогда не было). Речь идет о готовности выполнять требования правительства, какими бы нелогичными или коварными они ни были. Вы видите, как эти тенденции способствуют демонизации некоторых людей, особенно непривитых? Те, кто не действует, чтобы «защитить своих ближних», надевая маску, или кто предпочитает не делать прививки «ради уязвимых», представляют опасность для общества и угрозу для всех нас. Вы видите, к чему может привести эта демонизация? Мы знаем, к чему это привело в Германии.
Бесконечные отвлекающие факторы
«[Внезапно] я погрузился во всю новую деятельность, так как университет был втянут в новую ситуацию; встречи, конференции, интервью, церемонии и, прежде всего, бумаги для заполнения, отчеты, библиографии, списки, анкеты. И вдобавок к этому были требования в сообществе, вещи, в которых человек должен был участвовать, «ожидалось» участие, которых не было или которые не были важны раньше. Это была чепуха, конечно, но она отнимала все силы, выходя за рамки работы, которую действительно хотелось делать. Вы видите, как легко было тогда не думать о фундаментальных вещах. Некогда было» (167).
Соедините тираническое использование общего блага с вечным чрезвычайным положением, и вы получите тоталитарный режим, который не подлежит сомнению: «[Т]е время не время для разногласий» (256). Добавьте к этой тактике бесконечные отвлекающие факторы, чтобы занять граждан, и никто даже не время спрашивать. Послушайте одного из коллег Майера:
«Диктатура и весь процесс ее возникновения были прежде всего забавны. Это давало предлог не думать тем, кто и так не хотел думать. Я не говорю о ваших «маленьких человечках», о вашем пекаре и так далее; Я говорю о своих коллегах и о себе, ученых мужах, заметьте. Большинство из нас не хотели думать о фундаментальных вещах и никогда не хотели. В этом не было необходимости. Нацизм заставлял нас думать о страшных фундаментальных вещах — мы были порядочными людьми — и заставлял нас так заниматься непрерывными переменами и «кризисами» и так зачаровывал, да, завораживал, происками «врагов нации» внутри и снаружи. что у нас не было времени думать об этих ужасных вещах, которые мало-помалу росли вокруг нас. Бессознательно, я полагаю, мы были благодарны. Кто хочет думать?» (167-168).
Разве не это происходит в окружающем нас мире, пока я это пишу? За последние два года наша жизнь постоянно переворачивалась с ног на голову из-за блокировок, масштабирования, онлайн-обучения, обязательного ношения масок, «социального» дистанцирования и многого другого. А затем нам говорят, что мы должны выполнять предписания о вакцинации, иначе мы потеряем работу, в результате чего некоторые из нас будут слишком утомлены, чтобы сопротивляться, а другие еще больше устанут от попыток. А для тех из нас, кто решил отказаться от доступных вакцин, мы должны потратить время — много-много времени — на составление запросов на освобождение для различных мандатов, подробно объясняя наши причины за возражение против джебов.
И вот, когда кажется, что ковидному безумию приходит конец (по крайней мере, пока), в Канаде объявляется «чрезвычайное положение», которое попирает права граждан Канады, и уже сейчас мир погрузился в кризис из-за конфликт в Украине. Происходит так много всего, так много законных забот, которые требуют нашего внимания, что многие не подозревают о тоталитарной петле, которая затягивается вокруг нас. Более того, мы слишком измотаны, чтобы анализировать происходящее, слишком устали, чтобы даже заботиться об этом. Но заботиться мы должны! Или будет слишком поздно, и будет Обратного пути нет.
Наука и образование
«Студенты университетов поверили бы чему-нибудь сложному. Профессора тоже. Вы видели таблицу «чистоты расы»? — Да, — сказал я. — Ну, тогда ты знаешь. Целая система. Мы, немцы, любим системы, знаете ли. Все совпало, так что это была наука, система и наука, если только смотреть на круги, черные, белые и заштрихованные, а не на реальных людей. Такой тупость они не могли научить нас, маленьких людей. Они и не пытались» (142).
«Доверьтесь науке». Или так нам говорили последние два года. Еще одна тактика, используемая авторитарными властями во все времена, — обращение к науке и опыту. Друзья Майера описали, как нацисты использовали «науку», чтобы убедить студентов и других в том, что евреи хуже, даже больной. Но это была не наука; это был сциентизм. Так и сегодня.
Наука — это не догма; это не набор убеждений. Настоящая наука — это процесс, посредством которого мы открываем истину о физическом мире. Мы начнем с гипотезы, которую необходимо тщательно проверить с помощью наблюдений и экспериментов. Но за последние два года под «наукой» подразумевалось то, что органы общественного здравоохранения утверждают за истину, независимо от того, подтверждаются ли эти утверждения доказательствами. Фактически, большая часть этой так называемой науки оказалась явно ложной.
Помимо использования «науки» для достижения своих целей, правительство Рейха также стремилось контролировать образование. «Национал-социализм потребовал уничтожения академической независимости» (112), заменив истину и поиск истины верностью нацистской доктрине. Примечательно, что нацисты захватили не только средние, но и начальные школы, даже переписав некоторые предметы в соответствии с нацистской пропагандой: «Учебная программа по истории, биологии и экономике была гораздо более сложной, чем по литературе. и гораздо строже. Эти сюжеты действительно были переписаны» (198). Друг Майера, учитель, объяснил, что Рейх также поставит «невежественных «надежных людей» из политики или бизнеса выше педагогов»; это было «частью нацистского способа унизить образование и вызвать к нему всеобщее презрение» (197). В сегодняшнем мире это, скорее всего, потребует привлечения бюрократов для контроля над тем, чему учат в классе, или для контроля над тем, есть ли даже is классе, так как многие школы были навсегда закрыты, «чтобы замедлить распространение».
Подавление речи и поощрение самоцензуры
«Все не регулировалось специально, никогда. Это было совсем не так. Выбор был оставлен на усмотрение учителя в рамках «немецкого духа». Это было все, что было необходимо; учитель должен был только быть осторожным. Если бы он сам вообще задавался вопросом, будет ли кто-нибудь возражать против данной книги, он поступил бы мудро, не используя ее. Видите ли, это была гораздо более мощная форма запугивания, чем любой фиксированный список допустимых или неприемлемых произведений. То, как это было сделано, было, с точки зрения режима, удивительно умным и эффективным. Учитель должен был сделать выбор и рискнуть последствиями; это сделало его еще более осторожным» (194).
Метод рейха по контролю за образованием (и речью в более широком смысле) не основывался на слишком конкретных правилах. В нашем современном мире эта тактика выходит далеко за рамки соблюдения протоколов covid, но, безусловно, включает их. Редко были учреждения, которые разрешали выбор масок; большинство школ требовали, чтобы их ученики носили их независимо от личных убеждений. Результат? Студенты, которые быстро поняли, что они должны закрывать лицо, чтобы участвовать в жизни общества, и некоторые, кто пришел к выводу, что они серьезно навредят себе или своим одноклассникам, если снимут их. И даже несмотря на то, что в большинстве юрисдикций США в большинстве школ отменяются требования к ношению масок, многие учащиеся настолько стесняются показывать свое лицо, что добровольно продолжают носить их. Какова цена не только психического здоровья этих студентов, но и свободы слова и самовыражения? Мы можем никогда полностью не узнать.
И это были не только школы. Протоколы Covid и рассказы о covid применялись и за пределами школ. В начале 2021 года лишь незначительное меньшинство предприятий разрешало своим клиентам входить без масок; еще меньше разрешили своим сотрудникам эту возможность. Маски редко признаются большинством должностных лиц общественного здравоохранения. do мешают человеческому общению (если бы не мешали, мировые лидеры не снимали бы их говорить). И если способность к общению затруднена, то страдает и свободный обмен идеями.
Что же касается речи в более широком смысле, то тактика, описанная Майером, поощряет самоцензуру, которая, по признанию любого здравомыслящего человека, имеет место и сегодня. Возвращаясь к выступлениям, которые считались «политически некорректными» десятилетия назад, мы все понимаем, что существуют определенные принятые позиции по целому ряду тем, начиная от расы и пола и заканчивая вакцинами и лечением COVID-XNUMX.
Не смей делиться чем-либо, что противоречит повествованию, о ковиде или чем-то еще. Поделиться чем-то, что близко к сомнению в повествовании, может иметь множество последствий, как личных, так и профессиональных. Вы ведь не хотите, чтобы вас обвинили в распространении дезинформации? Или оклеветали как конспиролога? Поэтому мы воздерживаемся от обмена контраргументами и доказательствами, даже если эти доказательства абсолютно законны и полностью обоснованы.
Неопределенность
«Видите ли, — продолжал мой коллега, — никто точно не видит, куда и как двигаться. Поверьте, это правда. Каждое действие, каждый случай хуже предыдущего, но лишь немногим хуже. Вы ждете следующего и следующего. Вы ждете одного великого потрясения, думая, что другие, когда придет такое потрясение, каким-то образом присоединятся к вам в сопротивлении. Вы не хотите действовать или даже говорить в одиночку; вы не хотите «из кожи вон лезть, чтобы создавать проблемы». Почему бы и нет? Ну, вы не имеете привычки это делать. И вас сдерживает не только страх, страх одиночества; это также подлинная неопределенность.
«Неопределенность — очень важный фактор, и со временем она не уменьшается, а растет. Снаружи, на улицах, в обществе «все» счастливы. Никто не слышит протеста и уж точно не видит его. . . . вы разговариваете наедине со своими коллегами, некоторые из которых, безусловно, думают так же, как и вы; но что они говорят? Они говорят: «Все не так уж плохо», или «Ты что-то видишь», или «Ты паникер».
"А вы Он паникёр. Вы говорите, что это должно привести к этому, и не можете этого доказать. Это начало, да; но откуда вы знаете наверняка, когда вы не знаете конца, и как вы знаете или хотя бы предполагаете конец? С одной стороны, вас запугивают ваши враги, закон, режим, партия. С другой стороны, ваши коллеги считают вас пессимистом или даже невротиком. Вы остаетесь с вашими близкими друзьями, которые, естественно, являются людьми, которые всегда думали так же, как и вы» (169-170).
А так ничего не делаем. Майер прав. Его коллега был прав. Что мы можем сказать?
Мы можем сказать одно: те, кому понадобились маски, случайно или преднамеренно, еще больше усугубили чувство неуверенности. Мы изо всех сил пытаемся понять, что думают или чувствуют другие, потому что наши лица скрыты. Помимо легкого беспокойства и страха, которые у всех вызывают маски (по крайней мере, заставляя нас рассматривать других как угрозу нашей безопасности, а не как личностей), мы не уверены в своих силах. зачем окружающие носят маски. Просто потому, что им так сказали? Это из уважения к другим? Или потому, что они искренне хотят их носить?
Допустим, это правда, что подавляющее большинство работников предпочли бы не носить маски, если бы их работодатели не требовали их. Как мы можем знать наверняка, что они предпочитают, если у них нет выбора? Точно так же, если от человека требовалось делать различные вещи, чтобы показать верность партии, как можно было узнать, действительно ли другие лояльны к партии или просто идут, чтобы смешаться (и не попасть в лагеря)?
Постепенно, потом вдруг
«Жить в этом процессе — значит совершенно не уметь его замечать — пожалуйста, поверьте мне, — если только не обладать гораздо большей степенью политического сознания, проницательности, чем когда-либо приходилось развивать большинству из нас. Каждый шаг был так мал, так незначителен, так хорошо объяснен или, при случае, «сожалеет», что, если не отстраниться от всего процесса с самого начала, если не понять, что это было в принципе, что все это «Небольшие меры», на которые ни один «патриотичный немец» не мог возмутиться, должны были когда-нибудь привести, и никто не видел, как они развиваются изо дня в день, как фермер на своем поле не видит, как растет кукуруза. Однажды это выше его головы» (168).
Из всех тактик, используемых тиранами для достижения своих целей, иллюзия того, что у нас есть достаточно времени, чтобы сбежать, пожалуй, самая важная. Если бы мы все могли вернуться в февраль 2020 года, сколько бы из нас предсказывали, что мы бы здесь? Как все это произошло? Постепенно, потом все сразу. Майер чувствует нашу дилемму:
«Как этого избежать среди обыкновенных людей, даже образованных обыкновенных людей? Честно говоря, я не знаю. Я не вижу, даже сейчас. Много-много раз с тех пор, как все это произошло, я размышлял над этой парой великих афоризмов: Принципы обста и Финем респайс— «Противодействуй началу» и «Помышляй о конце». Но нужно предвидеть конец, чтобы сопротивляться или даже видеть начало. Нужно ясно и определенно предвидеть конец, а как это сделать, обыкновенным людям или даже необыкновенным людям? Вещи может быть изменились здесь, прежде чем зашли так далеко; они не сделали, но они может быть имеют. И все на это рассчитывают может быть»(168).
Вспомните март 2020 года. Тогда мы должны были сопротивляться. Мы не должны были мириться с режимом самоизоляции или различными (и даже бессмысленными) ограничениями в отношении местного бизнеса и частной жизни. Правительства уже зашли слишком далеко. А потом появились маски, и некоторые говорили, что маски — это холм. Людей, разделявших эти опасения, высмеивали как фанатиков и теоретиков заговора, но они правую.
Многие этого не видели, и еще меньше сопротивлялись. Я увидел это относительно рано, но не сопротивлялся так яростно, как следовало бы, и моя неудача преследует меня по сей день. Если бы мы более серьезно сопротивлялись маскам, перспективы введения вакцинации в значительной степени рухнули бы. Действительно, не было бы никакой политической, моральной или практической поддержки мандатов на вакцинацию, а более коварные паспорта на вакцины были бы успешно сопротивлены мандатам на маски. Но мы — но я — не сопротивлялись так яростно, как следовало бы.
Почему бы и нет? Я сказал себе, что стоит сохранить за собой влиятельную позицию на работе. Это было «взвешенное решение» продолжать помогать окружающим. А еще мне нужно было обеспечить своих дочерей едой и кровом, чтобы у них было «нормальное» детство.
Но своими добрыми и благородными компромиссами — они и есть компромиссы — заложил ли я почву для дальнейших посягательств на жизнь и свободы моей семьи? Посеял ли я семена вечной антиутопии, которая будет вечно терроризировать моих дочерей и их детей? Я заключил сделку с дьяволом? Что еще более важно, если да, есть ли выход из этого контракта?
Сила ненасильственного сопротивления
«Тиранов беспокоит фактическое сопротивление, а не отсутствие нескольких рук, необходимых для выполнения темной работы тирании. Что нацисты должны были оценить, так это момент, когда жестокость пробудит общество к осознанию своих моральных привычек. Этот пункт может быть сдвинут вперед по мере того, как чрезвычайное положение в стране или холодная война продвигаются вперед, и еще дальше в ходе горячей войны. Но это остается точкой, к которой тиран всегда должен приближаться и никогда не переходить. Если его расчет слишком сильно отстает от настроения народа, ему грозит дворцовый путч; если слишком далеко, народная революция» (56).
Мы недооцениваем силу людей, когда они решают сопротивляться. Родители по всей стране выступили против обязательного ношения масок, и многие школьные советы уступили и сделали маски необязательными. Многие работники отказались выполнять предписания о вакцинации, и многие работодатели уступили (или, по крайней мере, предоставили широкие исключения). Родители и сотрудники не во всех случаях побеждали, но они выиграли больше сражений, чем многие думают, и война далека от завершения. Сильная и сплоченная оппозиция также привела к отмене политики правительства в отношении коронавируса, и по мере усиления давления отменяется все больше мандатов. Мы должны продолжать сопротивляться и помогать другим делать то же самое, признавая, что затраты, которые мы несем, в конце концов того окупятся.
Цена несогласия
«Вы уважаемы в обществе. Почему? Потому что ваше отношение такое же, как и у сообщества. Но можно ли уважать отношение общества? Мы — вы и я — хотим одобрения сообщества на основе сообщества. Нам не нужно одобрение преступников, но сообщество решает, что преступно, а что нет. Это ловушка. Ты и я — и десять моих друзей-нацистов — попали в ловушку. Это не имеет прямого отношения к страху за свою собственную безопасность или безопасность своей семьи, или свою работу, или свою собственность. У меня может быть все это, я никогда не потеряю этого и все еще буду в изгнании. . . . Моя безопасность, если только я не привык быть инакомыслящим, отшельником или снобом, в количестве; этот человек, который завтра пройдет мимо меня и который, хотя он всегда говорил мне «здравствуйте», никогда не пошевелил бы ради меня пальцем, завтра уменьшит мою безопасность на один номер» (60).
В гитлеровской Германии отклоняться от приемлемых соображений, отклоняться от принятого нарратива означало подвергать себя риску. Так и сегодня. На несогласных смотрят как на тех, кто создает проблемы. Оспаривание общепринятых нарративов или сомнение в «консенсусе» вызывает гнев как обычных граждан, так и культурных элит. Несогласие опасно не потому, что человек фактически неверен в своих оценках, а потому, что его оценки бросают вызов принятым догмам.
Стоимость соответствия
Быть инакомыслящим приходится платить. Друзья Майера находились в постоянной опасности потерять работу и свободу, а возможно, и жизнь. Но есть и цена соответствия, и эта цена намного выше, чем все, что мы можем себе представить в настоящее время. Слушать осторожно к Майеру:
— Все яснее становится, что если уж что-нибудь делать, то надо сделать повод, а то ты явный смутьян. Так что жди и жди. Но один великий шокирующий случай, когда к вам присоединятся десятки, сотни или тысячи, никогда не наступит. Это сложность. Если бы последний и худший акт всего режима произошел сразу же после первого и самого мелкого, то тысячи, да, миллионы были бы достаточно потрясены, если бы, скажем, газирование евреев в 43 г. Наклейки «Немецкая фирма» на витринах нееврейских магазинов в 33-м году. Но, конечно, это не так. Между ними проходят сотни маленьких шагов, некоторые из них незаметны, каждый из них готовит вас к тому, чтобы следующий вас не шокировал.
«И однажды, слишком поздно, все ваши принципы, если вы когда-либо чувствовали их, обрушиваются на вас. Бремя самообмана стало слишком тяжким, и какой-нибудь незначительный случай, в моем случае мой сынишка, чуть больше младенца, сказавший: «еврейская свинья», разом все обрушил, и вы видите, что все, все, изменился и полностью изменился под вашим носом. Мир, в котором вы живете — ваша нация, ваш народ — это вовсе не тот мир, в котором вы родились. Все формы здесь, все нетронутые, все успокаивающие: дома, магазины, работа, приемы пищи, визиты, концерты, кино, праздники. Но дух, которого вы никогда не замечали, потому что всю жизнь ошибались, отождествляя его с формами, изменился. Теперь вы живете в мире ненависти и страха, а люди, которые ненавидят и боятся, даже сами этого не знают; когда все трансформируются, никто не трансформируется. Теперь вы живете в системе, которая правит без ответственности даже перед Богом».
— Ты прошел почти весь путь сам. Жизнь — это непрерывный процесс, поток, а вовсе не последовательность действий и событий. Оно перешло на новый уровень, увлекая за собой вас без каких-либо усилий с вашей стороны. На этом новом уровне вы живете, вы живете комфортнее с каждым днем, с новыми нравами, новыми принципами. Вы приняли то, что не приняли бы пять лет назад, год назад, то, что ваш отец даже в Германии не мог себе представить. Внезапно все рушится, все сразу. Вы видите, что вы есть, что вы сделали или, точнее, чего вы не сделали (ибо это было все, что требовалось от большинства из нас: ничего не делать). Вы помните те ранние собрания вашей кафедры в университете, когда стояли одни, стояли бы и другие, может быть, но никто не стоял. Мелкое дело, нанять того или иного человека, а вы наняли этого, а не того. Теперь ты все вспоминаешь, и твое сердце разрывается. Поздно. Вы скомпрометированы без возможности восстановления.
"Что тогда? Затем вы должны застрелиться. Некоторые сделали. Или «подкорректировать» свои принципы. Многие пытались, и некоторым, я полагаю, это удавалось; не я однако. Или научитесь прожить остаток жизни со своим позором. Это последнее в данных обстоятельствах ближе всего к героизму: стыд. Многие немцы стали такими бедными героями, я думаю, гораздо больше, чем мир знает или хочет знать» (171–172).
Я читал этот раздел больше раз, чем могу сосчитать, и, читая его сейчас, я оплакиваю свои собственные неудачи. Мои собственные страхи. Мое собственное соучастие в медленном росте ковидного тоталитаризма. Позволить правительствам и СМИ создавать нарративы. Неспособность занять позицию. Но еще не поздно! То, что приходит с цифровыми удостоверениями личности и цифровыми паспортами, более коварно и изобретательно, но еще есть время сопротивляться. Но мы должны решить стоять сейчас. Мы должны решиться стоять вместе. И мы должны стоять, чего бы это ни стоило.
-- Вы знаете, -- продолжал он, -- когда люди, понимающие происходящее -- движение, то есть историю, а не отчеты об отдельных событиях или событиях, -- когда такие люди не возражают и не протестуют, люди, не понимающие нельзя ожидать. Как вы думаете, сколько мужчин понимают — в этом смысле — в Америке? И когда, когда ход истории ускорится и непонимающие обезумеют от страха, как наш народ, и превратятся в великую «патриотичную» толпу, поймут ли они тогда, чего не понимали прежде?» (175).
На нас, видящих происходящее, лежит обязанность встать и сопротивляться. Мы все будем нести некоторые расходы, либо сейчас, либо в будущем. Некоторые из нас поплатились за то, чтобы встать на ноги: мы потеряли работу, потеряли друзей и даже потеряли свободу. Но Найти из нас понесли цену тиранических злоупотреблений во имя общественного здравоохранения. Я потерял счет количеству людей, которых я знаю, которым не разрешили попрощаться со своими близкими. Кому было отказано в доступе к потенциально жизненно важным методам лечения. Кому было отказано в медицинской помощи во имя общего блага. Несомненно, мы все страдали в течение последних двух лет, но если мы не сможем сопротивляться этой постоянно вторгающейся тирании, это будет стоить нам дороже, чем мы можем себе представить. Я не знаю точно, чего нам будет стоить стоять за правду и свободу в ближайшие месяцы и годы. Но что я могу сказать почти с уверенностью, так это то, что цена нынешнего сопротивления будет гораздо более терпимой для нашей совести и, возможно, нашей жизни, чем отказ от сопротивления. Что еще более важно, сопротивление сейчас, безусловно, будет более терпимым для жизни наших детей.
Выбор перед нами
Из-за риска для своей жизни и своих семей многие немцы отказывались открыто говорить о том, что происходит, даже когда они знали об этом. И их опасения полностью оправдались:
«Те, кто вернулся из Бухенвальда в ранние годы, пообещали — как всегда должен был обещать каждый заключенный каждой немецкой тюрьмы после освобождения — не обсуждать его тюремный опыт. Ты должен был нарушить свое обещание. Вы должны были рассказать об этом своим соотечественникам; вы могли бы, даже если все шансы были против вас, спасти свою страну, если бы вы сделали это. Но ты этого не сделал. Вы рассказали своей жене или отцу и поклялись хранить тайну. И вот, хотя догадывались миллионы, знали только тысячи. Хотели ли вы вернуться в Бухенвальд, и на этот раз с худшим обращением? Вам не было жаль тех, кто там остался? И разве ты не был рад, что тебя не было дома? (59).
Разве не так обстоит дело со многими, кто бежал из лагерей в Северной Корее? Или уйгуров, которые были освобождены из «центров перевоспитания» в Синьцзяне, Китай? Я не смею строго судить тех, кто не высказался, так как не могу понять, что они пережили. Но я хочу думать, что у меня — и у всех, кто читает эту статью — будет решимость высказаться в эти темные часы. Стоять плечом к плечу, не уклоняться от ответственности перед нашими детьми, перед соседями и перед поколениями, которые придут после нас. Но потом я думаю о своих детях — трех моих драгоценных дочерях — и я думаю о нынешней цене, за которую приходится стоять.
Если я заговорю, меня могут арестовать, мои банковские счета могут заморозить, мою профессиональную лицензию приостановить или отозвать. Моя способность обеспечивать свою семью может значительно уменьшиться, и мои девочки могут потерять свой семейный дом. Более того, если меня однажды арестуют и повезут в тюрьму или в лагерь (или как там называются учреждения, где людей держат против их воли), я не буду присутствовать, чтобы играть в мяч с моим младшим, наблюдать за моим вторым покататься на ее ховерборде или послушать, как мне читают мои самые старые книги. Возможно, я не смогу уложить их в постель, спеть им, помолиться с ними — и не только на ночь, но и на недели или месяцы (если не годы). Так что я разрываюсь.
Должен ли я говорить открыто, зная, что высказывание несогласия может перевернуть жизнь моих дочерей и сделать их практически без отца? Или я предпочитаю хранить молчание, подавляя протесты своего сердца, пока они не сойдут на нет? Принимаю ли я новую норму антиутопической тирании, чтобы физически присутствовать со своими детьми, зная, что этот выбор обрекает моих дочерей (а также их семьи и потомков) на тоталитаризм, который может никогда быть свергнутым? Что заставила бы меня сделать любовь? Что это правую вещь которую нужно сделать? Что я выберу делать? Я знаю, что я надеюсь выбрать, но вы видите трудности?
Что мы выберем?
«Здесь, в Кроненберге? Ну, у нас было двадцать тысяч человек. Сколько из этих двадцати тысяч человек выступили против? Откуда вы знаете? Откуда мне знать? Если вы спросите меня, сколько из них сделали что-то в тайной оппозиции, что-то, что представляло для них большую опасность, я бы сказал, что двадцать. А многие ли делали что-то подобное открыто и только из благих побуждений? Может пять, может два. Так уж устроены мужчины». — Вы всегда говорите: «Таковы уж мужчины», герр Клингельхёфер, — сказал я. — Ты уверен, что мужчины такие? «Вот такие здесь мужчины, — сказал он. — В Америке другие? Алиби, алиби, алиби; алиби для немцев; алиби также и для человека, который, когда его однажды спросили в старину, предпочитает ли он совершать несправедливость или терпеть ее, ответил: «Я не хочу ни того, ни другого». Смертельный выбор, который должен был сделать каждый немец — знал ли он, что делает его, — это выбор, с которым нам, американцам, никогда не приходилось сталкиваться» (93–94).
Когда Майер писал свою книгу, американцы еще не стояли перед выбором, который должны были сделать его друзья. Но в течение последних двух лет мы смотрели в глаза этим выборам. Безусловно, им противостоят австралийцы, как и граждане Новой Зеландии. Австрия, Испания, Италия и Канада — не говоря уже о многих восточных странах — определенно противостоят им. И во многих голубых городах и штатах по всей стране наши соотечественники столкнулись с этим выбором и ощутили тяжесть разделения и дискриминации.
Каждую весну, когда мы обсуждаем эту книгу, я часто задаю своим студентам следующий вопрос: что произойдет, если Соединенные Штаты и другие свободные нации впадут в тиранию? В Германии перед Второй мировой войной по крайней мере можно было иммигрировать в другое место. Можно было бы выбраться, если бы у него были средства и если бы он увидел, что это произойдет вовремя. Но что произойдет, если we отказаться от борьбы? Куда еще мы можем пойти? Куда могут бежать наши дети? Если весь мир станет подобен Китаю, спасаться от надвигающейся бури больше некуда.
Итак, что мы должны делать? Сегодня мы должны решить провести черту, которую нельзя пересекать. Как писали другие, мы должны были провести черту на масках. Правительства во всем мире сделали целые общества более послушными, скрывая наши лица. Во многих случаях мы больше не воспринимаем других как людей. Вместо этого мы рассматриваем их как угрозу, как анонимные переносчики болезней. Но поскольку мы не подвели черту в масках в 2020 году, мы должны вернуть утраченные позиции. Мы должны бороться не только за то, чтобы положить конец нынешним мандатам на ношение масок и вакцин (и другим оставшимся ограничениям, связанным с коронавирусом), но и не сдаваться до тех пор, пока возможность таких мандатов рассматривается не только как политически несостоятельный, но и морально и этически неоправданный. И какой бы ни была цена, мы ни при каких обстоятельствах не можем принять использование цифровых паспортов (это Короткое видео показывает, почему). И, наконец, мы должны не только заниматься изменением политики; мы должны стремиться изменить сердца и умы, чтобы пробудить других к реальности того, что происходит.
Друзья, мы должны действовать — я должен действовать. Больше нет времени ждать.
Опубликовано под Creative Commons Attribution 4.0 Международная лицензия
Для перепечатки установите каноническую ссылку на оригинал. Институт Браунстоуна Статья и Автор.